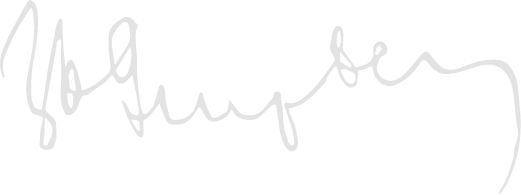 Воспоинания о Чаренце
Воспоинания о Чаренце
Мариэта Шагинян: Егише Чаренц
Недавно мне пришлось услышать, как Егише Чаренца, увиденного на портретах и в скульптуре, сравнивают с артистом Вахтанговым: -Изумительно похож! Такое же вдохновенное лицо! Вот что значит «идеализация», возникающая от времени и незнания. Как правило, у гениальных людей вдохновенных лиц не бывает. И просто жалость берет, что у нас почти нет схожих портретов Чаренца, чтоб сохранить в памяти человечества облик этого исключительного явления в советской армянской действительности. Основным, как мне кажется, психо-физическим признаком Чаренца, бросав шимся в глаза при первом же знакомстве, было крайнее стеснение и неумение раскрыть себя при соприкосновении с внешним миром. В выражении его очень узко- го, вытянутого книзу лица (такие в просторечии называют утиными) была запрятанная в себя, почти ожесточенная застенчивость. Обычно у людей с такой застенчивостью разрядка прорывается вдруг очень бурно. Было так и с Чаренцем. Задолго до нашего знакомства,-а состоялось оно в самом начале двадцатых годов,-Егише Чаренцу предшествовала его репутация скандалиста. Бог знает, что мне рассказывали о нем-но всегда эти истории уличных и ресторанных дебоширств напоминали не «агрессивные», а скорей «защитные» выпады человека, не встречающего правильной оценки себе. Чаренц был самолюбив, понимал, что ему много дано, а в то же время испытывал подчас страшные сомнения в себе, доводившие его иной раз до унизительных самоуничижений... Но вернусь к первым дням нашего знакомства. Оно произошло в Армении, в начале двадцатых годов. К нам в гости в гостиницу пришел невысокий и невзрачный паренек с лицом, показавшимся мне совсем не типично армянским; он не был даже и «жгучим брюнетом», а скорей рыжеватым. Держал себя очень застенчиво, почти угрюмо. Но когда разговорился, слушатель не мог не поддаться тотчас же обаянию его вызывающей стремительной речи, язвительному остроумию, оригинальности его мышления, сразу снявших с него и незначительность черт лица, и застенчивость, и провинциальные манеры. С тех пор мне приходилось довольно часто встречаться с ним и всякий раз спорить. Мы почти ни в чем не сходились, расценивали по-разному одни и те же явления армянского искусства, сцеплялись и в философских вопросах. И прежде всего-мы поразному понимали исторический тип армянского народа. Чаренц, выросший в турецкой среде, на антагонизме между двумя национальными культурами и двумя религиями, испытавший на себе, что такое хранить, как святыню, свое конкретно-национальное начало от удушения, угнетения, уничтожения,-видел всю силу исторической роли армянства в сохранении острой типизации наиболее характерного, наиболее «своего», неповторимого, национального в нем. Я, наоборот, выросла в московской русскоинтеллигентской среде, где национальным особенностям не придавали большого значения, а главным считались ценности общечеловеческие и умение ассимилировать, осваивать эти ценности. Видя с детства вокруг себя интеллигентных «русских армян», таких широко образованных по-европейски, как, по сохранившемуся в моей памяти с детства дружескому наименованию, Алеша Дживиллегов или талантливые студенты, братья Спендиаровы (один из которых стал впоследствии основоположником советской армянской музыкальной классики),-я гордилась превыше всего свойством армян глубоко осваивать мировую культуру и вырастать в «граждан мира»: Мне запомнился с детства какой-то роман Клода Фаррера про пожилую армянку, ставшую одной из самых образованных хозяек парижского салона; она умела на всех языках беседовать с учеными и художниками многих стран, а между тем до двадцати семи лет жила, по ее собственному признанию, в землянке без окон и была неграмотной. Чаренца возмущали все эти ссылки и цитаты. Он утверждал, что ни один европеец, а тем более такой, как Клод Фаррер, ничего не может понять в армянской женщине, а вот если б он, Чаренц, увидел эту хозяйку парижского салона, он подошел бы к ней и шепнул ей на ухо по-армянски: «Майрик, принеси мне из кухни стакан холодной воды, но только самой холодной!»-и по движению ее плеч, по тому, как она поплыла бы на кухню и вернулась со стаканом, по выражению ее глаз увидел не ту армянку, которая ассимилировала «все вершины европейской культуры», а ту, которая тысячелетия подавала мужу напиться, садилась поесть только после него и носила повязку на рту от уха до уха, как обет молчания. -Да и вы, тикин-джан,-говорил он мне десятки раз, вызывая во мне приступ бессильной ярости,-вы, сирли Мариам, точь-в-точь такая армянская женщина и когда-нибудь сами в этом убедитесь! Эти его слова так ужасно взбесили меня, что я ни разу не упомянула о них ни В каких воспоминаниях. И если решаюсь рассказать об этом сейчас, на восьмидесятом году моей жизни, то потому, что... убедилась в правоте Чаренца. Обозревая сейчас всю долгую, прожитую мной жизнь, наполненную громадным, непрерывным трудом и такими же громадными обидами или, как модно нынче гово- рить, «травмами», не испытав в прошлом того, что можно назвать подлинной благодарностью за свой труд, за отдачу всей души своей в этом труде, удивляясь такому неуваженью к себе и много раз спрашивая себя: «почему», «почему»,-я вдруг поняла, что я-та самая армянская женщина, упорно продолжающая. трудиться, за которой тысячи лет помыканья и трудом которой, если говорить горькую правду, спокойно помыкали в прошлом, как чем-то само собой разумеющимся и естественным. Во всех спорах с Чаренцем меня не покидало ощущение его гениальности. И это было тем удивительней, что стихов его, недостаточно зная армянский язык, я не читала и судить о нем по этим стихам-не могла. И вот в те далекие годы передо мной положили рукопись романа Чаренца «Страна Наири», переведенную с армянского на русский Я. С. Хачатрянцем. Надо было рецензировать эту рукопись и написать к ней предисловие. Не могу точнее определить чувство, пережитое от чтения первых же ее страниц, кроме как словом «потрясение». Я была по-настоящему потрясена; я ощутила тот легкий холодок в позвоночнике, тот почти физи- ческий трепет, когда вы лицом к лицу сталкиваетесь с подлинным произведе- нием искусства. Это редчайшие минуты в жизни. Но они-безошибочны. Настоящее в искусстве воспринимается мгновенно, и восторг от его восприятия сжигает всякое сомнение, как очень сильный накал мгновенно испаряет падающую на него каплю. По собственному определению автора, «Страна Наири»-роман, «похожий на поэму». Архитектонически он сделан как будто без всякого плана. Мазки большой кисти художника-реалиста кладутся на полотно не связанно, разрываются, повторяются. Но постепенно, по мере чтения, все эти разорванные пятна, изолированные образы и рефрены укладываются в одно большое полотно. Первое впечатление-теснота от богатства или «embarrus de richesses», как говорят французы, вдруг заменяется чувством чрезвычайно скупого и расчетливого мастерства, которое дает насыщенность большому полотну путем постепенного раздвижения его от образа к образу. Сперва этот этот роман воспринимаешь только как сатиру, подобную «Высокочтимым попрошайкам» Пароняна. Персонажи, изображаемые Чаренцем, оборачиваются к читателю гротескно-преувеличенными, почти карикатурными-своего рода Собакевичами, Маниловыми, Чичиковыми. Казалось бы, подобно Пароняну, Чаренц мог встретить негодующие возражения со стороны армян. А между тем «Страна Наири» была сразу же встречена ликованием армянской печати и почти тотчас канонизована как узловая вещь армянской литературы, установившая своим появлением хронологическую дату ее нового этапа. Почему это произошло? Прежде всего-в силу настоящего, в высокой степени реального воплощения социальной правды в романе. Чаренц создал целый ряд образов армянских людей не в их отвлеченной проекции, а в социальной, сатирически-заостренной, реальнейшей сущности. Социальные типы, созданные Чаренцем,-энглинизирован- ный купец Онник Манукофэффенди; учитель и школьный инспектор «г. Марукэ»; дашнакский вождь из буржуазии, Мазут-Амо; цирюльник Васил; мелкий лавочник Колопотян и многое множество других,- все это конкретные образы настоящих живых людей, жителей настоящего маленького городка накануне величайшего исторического перелома. Образ большевика Марукэ, правда, еще недостаточно силен, он написан слабее, нежели образ дашнака Мазут-Амо, но реальное соотношение сил в армянском городе, с его преобладающим мелкомещанским населением,-воссоздано исторически правдиво. И несмотря на слабость образа Марукэ, роман Чаренца стягивает симпатии читателей к этому образу и заражает их той безошибочной тягой к будущему и верой в победу его над прошлым, какая делает «Страну Наири» дорогой и близкой книгой для советских людей. Понятно, что в советской армянской литературе двадцатых годов эта книга стала событием, мимо которого нельзя было пройти равнодушно. Есть далее и еще одно обстоятельство, романа Чаренца сделавшее появление крайне симптоматичным. В дореволюционной армянской общественности для создания в широком смысле национального романа не было государственной почвы, потому что верхушка народа была связана с глубокими слоями армянской крене национальногосустьянской массы дарственно, даже не территориально, а лишь искусственной идеей такой связи, идеей борьбы за национальное освобож дение. Можно сказать поэтому, что до «Страны Наири» армянский роман, если не считать особого места, занятого рeaлистической прозой Ширванзаде, рос на так называемых «чаяниях»; он воплощал идеальную проекцию армянина-борца, идеальную проекцию армянского угнетения, идеальную проекцию тех конфликтов, которые возникали из романтики классовой борьбы, но не ту конкретную действительность, в которой жили основные трудовые массы народа. В свое время такая литература была актуальна, она дала не мало крупных произведений, хотя некоторые из них, уходя своими корнями в мир идеологических проекций, неизбежно приняли налет условности и граничили больше с публицистикой, нежели с монументальным искусством. Публицистика переполняла, например, романы Раффи, она чувствуется местами даже в «Высокочтимых попрошайках». Но Чаренц создал монументальную армянскую вещь. Это не только означает, что в армянской литературе двадцатых годов появился полновесный реалистический роман. Это указывает и на другое, чрезвычайно важное обстоятельство-что в самой армянской общественности появились те силы, то непосредственное давление массы на своих духовных представителей, в результате которого смог появиться национальный писатель, смогло зародиться и оформиться подлинно живое монументально-национальное произведение в жанре романа-эпоса. Чаренц смог написать «Страну Наири», потому что Октябрьская революция дала армянскому народу его национально-государственное бытие на родной земле. Вот в каком втором смысле роман Чаренца можно назвать исторической датой. И надо признаться, сам Чаренц сознавал это очень ясно, он чувствовал и сознавал, какие силы заставляют его взяться за перо. Если Абовян в «Ранах Армении» до сих пор волнует до глубины души каждого армянина, когда говорит о том, как за спиной его стояла Армения и, подобно музе или матери, водила пером его, то Чаренц в своем вступлении к роману тоже делает своеобразное признание. Но уже не мечта об идеальной музе-Армении-то есть не мечта-проекция, не мечта-утопия, сотканная из видений средневекового Ани, из образов Далекого прошлого,—а совсем другая сила побуждает его писать, делает необходимым для него писание романа, сопровождает его, куда бы он ни пошел, за что бы ни взялся. Надо снова и снова прочесть эти первые гениальные страницы вступления к роману, где художник выдает тайны своей творческой лабочтоб почувствовать глубокое ратории, внутреннее сходство и в то же время глубокое историческое различие между вдохновенным порывом Абовяна и вдохновением Егише Чаренца. Сила, которая возводит его творческую работу на высоту морального обязательства,-это труженик-народ, обретший свою родину и государственную самостоятельность; это образ простого, еще забитого, еще нищего армянского крестьянина, но уже с пробудившейся могучей творческой волей, уже в глазах своих таящего своеобразный приказ: воплоти меня, воплоти события исторической судьбы моей, моего вчерашнего дня во всей их социальной правде. И Чаренц воплощает пережитый им в Карсе исторический опыт во всей социальной правде. Прекрасен и бесконечно щедр язык романа. Его ритм и образность так индивидуально ярки и сильны, что название «подобный поэме», данное Чаренцем своему роману, вполне оправдывает ассоциацию с бессмертными «Мертвыми душами» Гоголя, тоже названными великим русским классиком «поэмой». Если бы можно было вернуть назад тридцать лет жизни,-я хотела бы снова поговорить с Чаренцем. Сказать ему многое, о чем не успела сказать тогда,-и чего еще не знала тогда, чтоб сказать ему. 3/XII 1959-18/V 1967 Ереван-Москва
Николай Тихонов: Поэт революционной бури
В 1924 году я впервые увидел Армению. Я жил в Ереване, совсем не похожем на сегодняшний. На улице Абовяна тянулись глинобитные стены садов, из-за них подымались тополя и фруктовые деревья, чередовались домики, с наступлением вечера ворота запирались на замок, ставнями закрывали окна. На бульваре за фонтаном сидели беженцы из турецкой Армении. Верблюды проходили привычными караванами. Гости-торговцы отдыхали в караван-сарае перед мечетью. Тени прошлого еще лежали и на маленьких домах, и на глиняных стенах садов, и на базаре, и на площадях, в кривых, узких, пыльных переулках. Но как рухнул в Зангу с обрыва дворец сатрапов прошлого, так же рухнуло и многое в жизни многострадального армянского народа. По-иному чувствовали себя люди, поиному велись разговоры о будущем, строились планы, начиналось строительство новой жизни. Особенно были оживлены люди искусства и литературы. И среди этих старых мастеров и молодых, как полагается молодым, ретивых и горячих, одно имя привлекло мое внимание и не могло не взволновать меня. Это было имя яркого, бурного, талантливого поэта и прозаика Егише Чаренца. Ему было только двадцать семь лет, а о нем уже говорили как о надежде армянской литературы, как о большом явлении, как о поэтереволюционере, принесшем в поэзию гром и огонь революционного пафоса и глубокий патриотизм. Я, к сожалению, в тот свой приезд в Армению не мог познакомиться с ним, но его стихи были так близки моим настроениям и ощущениям, что, по мере того, как я знакомился с ними, я чувствовал, что с появлением Чаренца на поэтическом горизонте взошло новое светило, и свет его дарования очень дорог всем, кто встал во весь рост вместе с первыми днями Октябрьской социалистической революции. Как я мог не чувствовать близости его стихов, если они перекликались с моими стихами тех лет и шли, как друзья, по одной дороге. Когда я читал его «Ленина и Али», я видел, что мой индийский мальчик Сами близок бедному портовому лодочнику Али из Трапезунда. И не только стихи поражали мое воображение. Роман Чаренца «Страна Наири», произведение молодой, горячей, взволнованной страсти, был новым открытием в прозе того времени, и я помню, как о нем много говорили в далеком от Еревана Ленинграде и как было радостно ощущать, что появился молодой, сильный, полнокровный художник, который многоцветно, беспощадно, едко может изображать действительность, в которой помимо пришедшего нового живет ограниченная дряблость мелкой буржуазии и злобная завистливость и жадность дашнаков, причинивших столько горя маленькой стране. С того, 1924 года прошло десять лет, когда состоялся праздник наших братских литератур. Мы все, советские писатели, встретились на Первом съезде советских писателей в Москве. Уже давно был известен Егише Чаренц в литературных, самых широких кругах. Уже он пропутешествовал за границей и, повидав мир, был обогащен опытом и, обладая завидным запасом энергии, пробовал свои силы и в поэмах, и в стихах, и в прозе и всюду давал новое доказательство своего выдающегося дарования. Он был уже одним из самых сильных поэтов того времени, известных далеко за пределами Армении. На русский его переводили лучшие поэты, он встречался с поэтами разных народов Советского Союза, и его авторитет был высок. Все чувствовали, что видят перед собой большое, оригинальное явление, создание армянского народного гения, положившего в колыбель своего сына большие поэтические дары. Что особенно привлекало в стихах молодого Чаренца-его природное необузданное вдохновение и революционная направленность этого вдохновения. Недаром ему был так близок наш общий великий трибун советской поэзии-Владимир Маяковский. Чаренц выглядел его братом по темам, по пафосу, по стиху, как бы созданному для площадей и улиц, полных революционных толп. Прошли годы с того дня, как замолкли голоса этих двух близких друг другу поэтов, но значение их стихов не только не умалилось, но приобрело даже какую-то новую жизненность. Молодые поэты читают эти вдохновенные, сильные, полные широкой образности строки и не могут не признать, что настоящая поэзия действительно обладает неумирающей полнотой ощущения. То, что закреплено в стихах Чаренца, его поэмах, и сегодня звучит для совсем иных поколений новым откровением. Я помню, как в дни съезда писателей, готовясь к выступлению и жадно слушая речи выступавших в прениях по докладам о поэзии, Чаренц в беседах выдвигал как основную свою мысль-мысль о разрыве с самоограниченностью. Подробно обосновав ее, эту же мысль он выразил в своем выступлении. «Велика роль национальных культур в общей системе советского культурного строительстванациональных культур, имея B виду не только настоящее, но и прошлое их. Но не забудем, товарищи, что роль эта может оказаться приемлемой и плодотворной лишь тогда, если мы рассмотрим их не сквозь призму замкнутых «национальных культур». Я тоже, как армянский писатель, принадлежу к «малой» народности и знаю, что если я свою творческую деятельность психологически ограничу рамками национальной замкнутости, сколь будет жалок ее диапазон и сфера ее влияния. Я счастлив и чувствую себя частью наипередового потока человечества благодаря тому, что Октябрьская революция изъяла из духовного поля моего зрения эту жалкую химеру национальных самоограниченностей». Рассматривая поэтическое наследие Егише Чаренца, мы видим, что он был верен на всем своем поэтическом пути этой большой, высокой многообразности поэзии, сохраняющей национальные фор- мы и возвышающейся над всеми ограничивающими ее барьерами. Поэтому его стихи прошли испытание временем и живут сегодня. И долго еще будут жить, несмотря на то, что даты под стихами будут отодвигать день их рождения все дальше и дальше от читателя. Егише Чаренц в семье советских поэтов всех народов, населяющих нашу Родину, занял свое, выдающееся место, и нет такого поэта, на каком бы языке он ни писал, который не знает его стихов. Когда Чаренц говорил, что грозная правда нашей жизни выше всех литературных и эстетических споров, он был прав в том, что поэт, имеющий что сказать своим современникам, не может не сказать этого главного и не может не сказать с предельно найденным точным и ярким выражением самого главного в представляемой им теме. Сам он, ища и находя свои и новые способы изображения действительности стихом, никогда не подчинял этого главного эстетическим поискам ради только звучного словца или сложной запутанной образности. Мне кажется, что среди первых зачинателей советской литературы, советской поэзии он-поэт с большой буквы. Очень сильный талант его виден и в лепке образа, и в широте темы, и в искусной тонкой лирике, и в раздумье о прошлом и будущем своей страны Наири. Поэт изменялся, и изменялся его стих. Он сам пишет в искреннем, глубоком ответе своим недоброжелателям: Я буйным был, подобно мутным рекам, и, щедрый в песнях, был подчас пустым,- оставшись прежним пылким человеком, я возмужал, стал на слова скупым. Я больше не размениваюсь. Трезвый, не расточаю слов в бреду больном. Так тяжелеет в поле колос резвый, как только наливается зерном. Как человек, подверженный человеческим слабостям, и как поэт, подверженный смене впечатлений и даже противоречиям, Егише Чаренц не был свободен от ошибок в своей творческой жизни. Но если сравнить значение этих ошибок и слабостей с тем, что он дал советской поэзии, что он поднял в первые годы становления советской литературы—весь огромный труд искателя и трибуна, то мы увидим, что Егише Чаренц имел полное право в стихотворении «Семь заветов песнопевцам грядущего» сказать: ...Песнопевцы грядущего, накрепко так стрелы вашего духа вместе соединя, выходите на пахоту, когда на дворе еще мрак, и вспашите прошедшее во имягрядущего дня. Егише Чаренц хорошо вспахал своим стиховым плугом поле во имя грядущего дня. И его поэтический урожай прекраceн. 195
Максим Рыльский: Выдающийся современик
Бывают поэты–и великие поэты–творчество которых пронизано одной главной идеей, одним излюбленным образом, одною, я бы сказал, мелодией (хотя мелодия эта имеет разнообразнейшие вариации). Такими были Петрарка, Байрон, Лермонтов, Блок, Шевченко. Таков в наши дни в полной мере А. Исаакян, светло-печальный тон большинства произведений которого является не только данью исторически обусловленной традиции армянской поэзии, не только выражением личных переживаний, но и его, так сказать, органичной чертой. Есть и такие творцы, как Гёте, Пушкин, Франко, Леся Украинка. Читая их, думаешь, что эти люди словно поставили перед собой цель охватить за свой смертный век всю человеческую жизнь в бесконечном разнообразии, весь мир, всю природу с безмерным богатством ее красок, тонов и линий. К таким поэтам принадлежал неутомимый в творческом труде и ненасытно жадный к знаниям Валерий Брюсов. К этим хочется отнести и преждевременно скошенного злой смертью Егише Чаренца. Конечно, не трудно найти в творчестве Чаренца ведущие, центральные идеи и настроения–горячую любовь к «стране Наири»–богатосодержательной и героической Армении, которая в тяжелейших исторических условиях создала одну из наиболее блестящих в мире культур, восторженное принятие Великого Октября, ненависть к мещанскому тупоумию и обывательской сытости... Однако, если брать написанное Чаренцем в целостности, а не обособленно, то нельзя не увидеть, как широко и глубоко разливались в разных направлениях потоки его мыслей, настроений, чувств, мелодий, как этот пламенный боец революции, красноармеец с молодости и воин всю жизнь разными прожекторами освещал прошлое и настоящее «страны Наири», как посвоему он оживлял образы древних армянских миниатюристов, и своеобразный пейзаж Армении, и незабываемые образы Саят-Нова и Комитаса, как он, не раз в борьбе с самим собою, воспринимал творчество Ваана Теряна, Ованеса Туманяна, Акопа Акопяна, Аветика Исаакяна, как в пестрых красках вырисовывались перед ним стройки современного великого города с его шумной и слаженной жизнью, как, набираясь разных форм, все яснее и все четче вырастал в его поэзии любимейший образ–образ Революции. Наряду с патриотическими поэмами о гневе народа, о сожжении старого мира во имя нового мира, о великом вожде трудящихся–Ленине у Чаренца мы видим интимнейшую лирику, где воспоминания о горьком детстве переплетаются с трагически- прекрасной любовью, где с такой силой проявляется тяга поэта к прекрасному, к гармонии... И в форме-форма, которую у Чаренца труднее, чем у кого- либо другого из поэтов, оторвать от содержания,—в форме тоже бескрайнее разнообразие: от смелых до дерзновения любовных стихов до канонических сонетов и рондо, от традиционных в армянской поэзии приемов до беспощадного ломания всего устарелого и устарелого и закаменелого. He Не раз говорилось о блоковском дыхании в лирике раннего Чаренца, о несомненном влиянии на него бунтаря Маяковского, о преодолении им символических и футуристических подражаний. К этому можно прибавить и то глубокое уважение, с которым относился Чаренц к «первооткрывателю» армянской поэзии в русской литературе Валерию Брюсову. Мало кто из армянских поэтов был так тесно связан с «путями и горениями» русской поэзии, как Егише Чаренц. Вспоминаю встречи с ним в Москве во время Первого Всесоюзного съезда советских писателей, беседы, в которых принимали участие Тычина, Асеев, покойный Луговской... Чаренц поражал нас тогда глубиной и широтой своих взглядов на литературу вообще и на русскую в частности. Он чувствовал себя участником общесоветского литературного процесса, он не боялся давать оценки людям и и явлениям, которые порою резко расходились с общепринятыми, но всегда были продиктова- ны пламенным советским патриотизмом... Вспоминаю и речь Чаренца на съезде, в которой он остро выступил против вульгаризаторов литературы и проповедников серой простоты. К Егише Чаренцу очень подходят слова, которые кажутся некоторым неправомерными, а между тем имеют глубокий смысл: оптимистический трагизм. Он плакал, горько смеялся, гневался, пылал, трепетал, гремел–с непоколебимой верой в прекрасное будущее народа. Такие поэты своим творчеством надолго переживают свою физическую жизнь, они, по-разному воспринимаясь в разное время, становятся дорогими спутниками идущих за ними поколений. 195
Илья Сельвинкий: Голос чистый и сильный
Небольшого роста, кудрявый, с напряженными глазами-таким остался в моей памяти Егише Чаренц. Познакомился я с ним в Москве. Двадцатые годы... Годы суровой классовой борьбы и мучительных поисков интеллигенцией своего места в строительстве нового мира. Чаренц был тогда еще совсем молодым человеком, почти юношей. Он нес революции лучшее, что у него было,-свое поэтическое дарование. Дарование это было ярким, горячим и своеобразным. -…Армения... Осуществилась мечта столетий. Мы стали государством. Какое это счастье! Представляете? Но есть у нас еще чиновники, которые по-прежнему мыслят провинциально и видят в Ереване всего-навсего центр Эриванской губернии, как-то говорил мне Чаренц. Трудно прожил Егише свою краткую жизнь. Но большие поэты не умирают. Чаренц говорит сегодня со своим народом в полный голос, и звук этого голоса, его чистота и сила отдаются в сердцах всего нашего многомиллионного советского читателя. 1957
Павел Антокольский: Слава его имени
Осенью 1935 года, будучи в Армении, я впервые увидел и довольно близко узнал человека и поэта, о котором все мы сегодня вспоминаем с таким волнением, Егише Чаренца. Ему еще не было сорока лет. Маленький, сухощавый и сухопарый, хорошо сложенный, он казался человеком без возраста, мог сойти и за мальчика и за старика, смотря в каком ракурсе, в каком освещении вы его увидите. На лице его были горькие морщины, такие резкие и глубокие, как будто они еще прочерчены углем; большие черные глаза смотрели не мигая, умно и печально. Так что душевный, творческий возраст все же обозначался, и он Доминировал в общем впечатлении от поэта. И он, этот возраст, говорил о сложном жизненном опыте, о том, что за плечами этого человека большая, недаром пройденная дорога, полная всего, что может выпасть на долю страстного и очень одаренного человека. ...На отличном русском языке, но с южными выразительными интонациями рассказывал нам Чаренц сказки и притчи далеких веков. Юмор у него был глубоко запрятан, какой-то особенно деликатный юмор, но тем более заразительный, чемто напоминавший Чарли Чаплина. Он свято почитал человеческий труд, результат труда, рабочее рвение каждой живой души: в ремесле, в мастерстве, в изобретении, в творчестве. Это основной пафос Чаренца как поэта и писателя. Он чувствуется в каждой строке, в каждом образе его стихов, особенно в тридцатые годы, последние годы его короткой жизни. Сложная, разносторонняя поэтическая культура Чаренца определялась многим усвоенным им вполне самостоятельно и органически вошедшим в сплав его лирики. Но мы не забываем при этом главного в Чаренце, самого дорогого для нас, самого существенного в оценке его наследия, для которого уже наступила история. Егише Чаренц был сыном великого октябрьского поколения, был одним из советских поэтов, который открыто и честно всего себя поставил на служение революции, на вооружение рабочего класса. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием-слушайте революцию...»-эти слова великого русского поэта прямо относятся к революционному творчеству армянского поэта. И чем дальше шло развитие Чаренца, тем яснее и ярче его связь с жизнью народа. Я хотел вспомнить человека, которого узнал более двадцати лет назад, человека, который обжигал каждого, кто с ним соприкасался. Я горжусь тем, что помог его стихам прозвучать по-русски, и жалею, что мало потрудился для этого. Конечно, Чаренц будет еще не однажды переведен на русский язык. Эта задача стоит перед многими из нас одинаково. Ведь в конечном счете это один из зачинателей всей советской поэзии, значение его выходит далеко за пределы родного языка и самой Армении. Вечная слава его имени! 1957
Илья Эренбург: Мертвые остаются молодыми
Анна Зегерс назвала один из своих романов «Мертвые остаются молодыми». Я думаю об этом названии, вспоминая Егише Чаренца. Он остался для меня молодым, таким, каким я его видел в последний раз в Москве, на Тверском бульваре, где тогда еще стоял, переехавший потом на соседнюю площадь, бронзовый Пушкин. Мы сидели на скамье втроем Чаренц, Тициан Табидзе, я,-и говорили мы о поэзии. Я помню, как Чаренц с глубоким убеждением твердил, что нужно служить народу и служить искусству не отказаться ни от справедливости, ни от подлинной красоты. Он не раз об этом писал в своих стихах, отвергая легкое, высмеивая тех, которые признают только шумные литавры и невзыскательные барабаны. Мертвые остаются молодыми… Кажется, что юноша, выйдя из Литературного института на Пушкинском бульваре, в эту осень 1957 года, вдохновенно говорит: Моя душа не рождена для плена дум скопческих и вызубренных слов... Эти стихи Чаренц написал тридцать лет назад. Его мысли об искусстве глубоки, к ним поэты еще не раз будут возвращаться. Всем своим жизненным путем он доказал, что революция и поэзия неразлучны, что нужно уметь ненавидеть врагов и презирать жалких филистеров, которые «жалят поэта». Мертвые остаются молодыми... Стихи Чаренца для нас полны весеннего задора, ветра революции, героики, и мы еще больше их за это любим-кто знает, как они нам сегодня нужны! Как-то я попросил Чаренца почитать его стихи по-армянски. Он читал, и передо мной вставала суровая и нежная Армения... Дикий наш язык и непокорный, мужество и сила дышат в нем, он сияет, как маяк нагорный, сквозь столетий мглу живым огнем. Я прочитал эти стихи Чаренца потом, в них он пишет: Даже сельский говор Туманяна нас не может в эти дни увлечь. А тогда он прочитал и улыбнулся: «Это не мои стихи, а Туманяна»… Как обидно, как жестоко он погиб! Я убежден, что этот большой поэт стал бы и большим романистом. Конечно, «Страна Наири» это проза поэта, притом отмеченная всеми формальными поисками той давней эпохи, но и по этой книге можно судить о большом повествовательном даре Чаренца. Он умел не только наблюдать, он умел переживать, он много бы дал нам большого и ценного. Я никогда не был в Армении, но я ее знаю не только по ее классикам-по моим современникам. Юношей я прочитал несколько стихотворений Исаакяна в переводе Блока и сразу насторожился: голос был чистым, редким и глубоко человечным. Сарьян помог мне увидеть Армению, ее цветущие сады и раскаленный камень. Чаренц мне открыл страстное сердце борца, товарища, поэта. Обожженный солнцем, скромный и пронзительный, дерзкий и нежный, вечно молодой-он и для веков сохранит свою молодость. 1957
Георгий Леонидзе: Памяти друга
Kак жаль, что нет среди нас Егише Чаренца! С какой любовью я вспоминаю образ большого патриота великой Советской родины, благородного интернационалиста! Для Чаренца, конечно, смерти нет! И я особенно рад тому, что мой любимый брат и поэт вернулся в отчий дом. В эти дни я особенно чувствую его поэзию, и воспоминания волнуют мою душу. Егише Чаренц был гордостью нашего поколения! Я хорошо знал Чаренца, дружил с ним, как и мои друзья Пабло Яшвили, Тициан Табидзе, Ник. Мицишвили. Мы часто встречались с ним в Тбилиси и в Ереване. Помню, как в Ереване Чаренц пригласил нас к себе. Тогда он жил в гостинице. Была поздняя осень, на столе-гора винограда. Мы все очень веселились, пили вино, шутили (Чаренц был острослов), потом читали стихи. Тогда много говорили об «Эпическом рассвете» Чаренца, и сам он читал нам стихи из этого цикла. Кто-то из присутствующих армян-друзей поэта-попутно делал нам устные подстрочники стихов Чаренца, и мы шутя говорили, что, не зная языка, верим друг другу на честное слово. -Хорошо, когда поэты встречаются. Хорошо, когда соседи любят друг друга!-говорил с увлечением с увлечением Чаренц.-Нам надо знать друг друга больше, чем знали друг друга Важа Пшавела и Ованес Туманян. Потом разговор перешел на поэзию. Говорили о высоком назначении поэта, о большой требовательности, которые предъявляют народ и время к поэту. Наши взгляды совпадали, так как мы были люди одного поколения, одних литературных вкусов, прошедшие сложный поэтический путь и одинаково стремящиеся выразить в строке трепет новой жизни. Совсем недавно в русском переводе я впервые читал стихи Чаренца «Послание из Еревана другу-поэту» и «Панегирик критику NN», и удивительно, эти стихи явились как бы стенограммой тогдашней нашей беседы с Егише Чаренцем. Он был врагом «дум скопческих и вызубренных слов», OH ненавидел своих зоилов, которые хотели сломить его лиру. Он был уверен в победе своей поэзии, которая верно служила народу. Мне снова-петь. И что бы ни твердили, Не оторвут от Ленина меня. И лиру недруг мой сломить не в силеИ звук растет, еще светлей звеня. В тот вечер наш разговор коснулся и вопроса содружества поэтов, укрепления их братских, интернациональных связей, что так волновало писателей Армении и Грузии. В последний раз я встретился с Егише Чаренцем в Тбилиси, на улице Мачабели, около Союза писателей Грузии. После этого я не видел больше изумительного поэта, который сейчас уже звенит в бронзе поэтической славы. Армянский поэт Егише Чаренц своей «Дружбой умножил наше счастье». Слава бессмертному певцу братского народа! 1957
Мирзо Турсун-заде: О наших песнях
B судьбе народа Армении и в его поэзии вижу много близкого и схожего с судьбой моего народа, с развитием таджикской литературы. Сейчас, в канун юбилея Великого Октября, особенно важно подвести некоторые знаменательные итоги этой общности наших жизненных и творческих дорог. Из тьмы к свету, из разобщенности к единой неразрывной семье, от угнетения и рабства к национальной самостоятельности и свободе-вот тот действительный, общий счастливый путь, который прошли наши народы, поднятые могучим девятым валом Октябрьской революции на гребень истории, озаренные бессмертным гением Ильича. Верно, что путь этот был нелегким. Но еще более верно то, что движение народов по этому пути было неодолимо и необратимо, охватило все уголки и грани нашего строительства, нашей экономики и культуры, впитывая в себя всю совокупность жизни страны и каждую отдельную человеческую индивидуальную судьбу. Когда я обращаюсь к истории Советского Таджикистана, я с волнением отмечаю эти удивительные грани нашего роста и развития. Они, как ручейки, сбегают с родимых родимых гор, зародившиеся в тысячах мест, мало заметные поначалу, но сливающиеся затем в сильные и упрямые русла, работа которых дает нам неиссякаемый свет, энергию и тепло. Первые Советы народных депутатов, первые комсомольцы в кишлаках, первые школы, первые колхозы... И вот уже взлетает земля на строительстве Вахшского канала, приходит в науку молодой отряд таджикской интеллигенции, дымят на моей родине заводы, вырастают города, крепнет рабочий класс республики, лучшими в мире становятся таджикские хлопкоробы, разливается в песках Широкое море, вспыхивают огни самой могучей в Средней Азии ГЭС. Все это находит свой отклик в литературе… И когда я перечитываю волнующие стихи и поэмы Егише Чаренца, я также вижу в них всю жизнь прекрасной Армении, в ее неразрывной связи со всем окружающим миром, в ее борьбе, расцвете, в сверкающих победах, в ее сердечном единстве с другими братскими республиками и в ее неповторимом национальном своеобразии-счастливую Армению Страны Советов. Мы с признательностью вспоминаем имена тех людей, для которых служение партии и народу было благородным и святым делом всей их жизни. Так с благодарностью мы вспоминаем жизнь И творческую деятельность Егише Чаренца. Поэзия его неувядаема, ибо бессмертие таланта в том, что было создано им прекрасного для Родины, для народа. 1957
Вл. Лидин: Судьба поэта
Там, где условно отмечена могила Чаренца, стоит двойная арка, в полуокружие которой как бы заключен темный массив Арарата, и вокруг оливковые складки гор и холмов, древняя, скорбная и нетленная, все пережившая, все узнавшая земля Армении. А на арке выбита строка из стихов Чаренца о том, что он найдет дорогу к славе. Я никогда не видел Чаренца, и он кажется мне отдаленным не только несколькими десятилетиями, а словно полувеком или даже целым веком-столь легендарной стала его трагическая судь- ба и его прекрасная поэзия. Самое примечательное в этой поэзии, что она лишь у преддверия своего мирового признания, ей предстоит только войти в поэтический обиход многих других народов. В бедном крестьянском домике Абовяна все скудно-каменный пол, грубые каменные фильтры для воды, соломенная кровля над поперечными балками и утварь селянина, но именно в этом домике, где родился великий армянский поэт, можно глубоко прочувствовать его поэзию, его мечты и веру в более счастливое будущее своего народа. Стоя в этом домике с его прохладой после жаркого осеннего дня снаружи, я думал, однако, не только о поэзии Абовяна, но и обо всей армянской поэзии, а вместе с тем, конечно, о посмертном признании прекрасного поэта нашего времени Чаренца, признании, сделавшем его имя славой армянской литературы. Перечитывая прозаическую книгу Чаренца «Страна Наири», отчетливо представляешь себе, какие возможности были заключены в этом поэте-своенравном, особенном, но именно потому своенравном и особенном, что он знал свою поэтическую силу, как это и положено поэту больших мыслей и чувств, и если говорить по истине, то прямому наследнику классиков армянской литературы-Патканяна, Иоаннисиана, Цатуриана, Туманяна, Исаакяна-поэтов разных, но с одним общим поэтическим ключом, отличающим именно Музу Армении, если говорить о верности своему народу, которому каждый из них служил. За полуокружием арки, на которой начертана строка из стихов Чаренца, проступает в ясное утро снеговая вершина Арарата и в покое и мире лежит армянская земля. После многих десятилетий бесправия, крови, угнетения, жестокости, слез она обрела поистине вулканическую силу сегодняшнего созидания, она лежит в мягкой красоте своих горных складок и садов, осыпанных белыми и лиловыми цветами весной, но прекрасных и осенью, когда ветви оголенных деревьев графически темнеют на фоне неба той глубокой синевы, которую Армении не занимать у Италии.. Обо всем этом, о судьбе Армении, о ее народе, дававшем и дающем миру с удивительной щедростью поэтов, художников, музыкантов, зодчих, артистов, ученых,-обо всем этом думаешь, стоя возле воображаемой могилы Чаренца, но трагическая судьба поэта рождает не только грусть; она напоминает о том, что Слово бессмертно, что его нельзя безымянно кинуть где-то в пустых местах, дабы навеки трава забвения зарастила его, оно даст всходы в свое время, поднимется, поразит воображение и станет одной из тех легенд, которые побуждают к лучшему, зовут к лучшему, и обещают это лучшее. В этом смысле поэзии Чаренца еще предстоит пройти удивительный путь, как это было и со многими поэтами прошлого. Масштабы, конечно, определяет история, но я не сомневаюсь, что в отношении Чаренца она будет не только милостива, но и по достоинству отведет ему то место, на которое он вправе рассчитывать своим поэтическим богатством. С могилы Чаренца не привезешь цветка, его могилы не существует, но с нее привезешь полную кошницу чувств, и это важнее всего для посмертной судьбы поэта. 1967
Григорий Санников: Высокое призвание
Откровенно скажу, что подлинное понимание творчества Чаренца ко мне пришло не сразу. Нужно было, по-видимому, какое-то расстояние во времени. Так, творчество Чаренца, выглядевшее поначалу талантливым экспериментаторством, с годами рельефней выявило все свои особенности. Мне грустно, что я не знаю армянского языка, чтобы в подлиннике читать Чаренца. В моем представлении, если сравнивать Чаренца с кем-либо из наших русских поэтов, в его творчестве счастливо сочетались особенности двух выдающихся поэтов советской эпохи-Маяковского и Есенина, могущество и патетика одного и пленительный лиризм другого при великолепном колорите всех достижений замечательной армянской поэзии. У нас пока мало хороших переводов Чаренца на русский, но даже и в подстрочниках и при восприятии на слух ритмов его поэзии чувствуется необыкновенное дарование поэта, сумевшего мастерски запечатлеть великое начало социалистической эпохи и образ Ленина, ее бессмертного вождя. Стихотворения Чаренца «Я видел живого Ленина» и другие принадлежат, по моему мнению, к числу самых выдающихся произведени
Сурен Гайсарьян: Первая любовь
Необычная, неожиданная поэзия Егише Чаренца не оставляла никого равнодушным. Стихи ошеломляли и покоряли, будили мысль читателя, учили любить Революцию, чьи бури и пламя они отражали. Мое знакомство с музой Чаренца произошло в начале двадцатых годов, когда юношей я взял в руки одну из его книг, изданную на толстой, грубой бумаге. Я читал и перечитывал стихотворения, отчетливо понимая, что это не похоже ни на что другое. Казалось, в размеренную обыденную жизнь ворвался ураган, и все полетело вверх тормашками. Книга радовала, волновала, захватывала с огромной силой. Увлеченный стихами Чаренца, я прочел их однажды в школе, на уроке армянского языка. Весь класс слушал с трепетным вниманием, а к концу урока наш старый учитель расплакался. Человек многосторонне образованный,-он окончил два гуманитарных факультета в Германии,-не знал новой поэзии. В его представлении армянская поэзия заканчивалась на именах Иоанни- сяна, Туманяна, Исаакяна. Чаренц потряс его. Волнуясь, он сказал нам тогда с интонацией, в которой звучали полупечаль и полурадость: «Слушая эти стихи, я думал о том, что старая книга армянского художественного слова закрылась. Чаренц пишет новую, будем надеяться, столь же блистательную...» Чаренц принес с собой новое содержа- ние, новые ритмы, новые интонации, новые слова, новый лад армянского стиха. За многие годы мы знаем теперь, что новое тоже бывает разное. Есть новое-модное, эфемерное, и есть новое-долговечное. То, что сделал Чаренц, живет сегодня и будет жить века. Чаренц вместилище многопластного опыта. Он интегрировал достижения своих дальних предшественников-мастеров средневековья-и современной родной, русской и мировой поэзии. Это дало возможность ему раскрыть в недрах армянской литературной речи ранее незримые поэтические жилы. Чаренц-дитя своего трудного и окрыленного времени. Звонкие, наэлектризованные ищущей мыслью, неукротимым чувством его стихотворения и поэмы излучали свет новой жизни. И все его разностороннее творчество в целом, со всеми взлетами и неизбежными спадами, воспринимается ныне как живой эпос революции. Чаренц говорил от имени восставших толп, революционных масс, передавал накал классовых страстей, непримиримых столкновений. Огромна его вера в созидательные силы рабочего класса, в его правоту и справедливость. Чаренц масштабен, громогласен. И в то же время его слово филигранно и остро, мир образов, интонация притягательны. Обращаясь к миллионам и говоря от их лица, он вместе с тем очень индивидуален своей темой, поэтическим видением жизни в ее неумолчном течении. Широк диапазон его художнических интересов. Поэтический Восток и Запад для него одинаково родные области, не отделенные друг от друга друг от друга непроходимым барьером. Боец и трибун, лирик и философ, он был из числа тех редких и счастливых поэтов, чьи произведения ждешь всегда с нетерпением и читаешь с радостным чувством вознагражденного ожидания. Поэты его масштаба вызревают, распрямляются во весь рост на великих переломах истории. Их мощный талант уходит корнями в толщу времен, словно не одно, а десятки поколений вложили свою страсть и волю, свои думы и надежды в одно большое сердце. В размашистой и раскованной натуре Чаренца есть нечто от Возрождения. При всей горячей сыновней любви поэта к родной Армении, его не вместишь в национальные рамки. Чаренц-певец и провозвестник истинного возрождения племен и народов. Будучи во всем сугубо национальным-армянским-поэтом, он шире, многоохватней своих предшественников, он поэт общечеловеческий. Чаренц-один и неповторим. И в то же время как будто Чаренцев много. С каждой новой книгой, с каждым новым значительным произведением, оставаясь все тем же, он был другим. С годами раскрывались перед читателем новые грани его могучего дарования. И с острой болью думаешь сегодня о том, что ему было только сорок лет, когда его жизнь оборвалась. Всегда в поисках, всегда в пути-таким запомнился Чаренц. Идя от ранних «эпических рассветов» революции, он шел к дальним далям человечества, стремился объять поэтической мыслью дыхание и шаг будущего. Его заботили многие думы, в том числе и то, «чтоб не села ржавчина» на его мысль, его дело. Он ненавидел все косное, отжившее, все, что шло от национальной узости и рабского уклада прошлого. Ненавидел застой, равнодушие, самодовольство и ограниченность мещан в любом облачении, ненавидел догматиков от литературы и тех снобов, что «ночью читали Верлена, а его (Чаренца) поносили днем». Искусство Чаренца в организованной ему одному присущими средствами стихии армянской поэтической речи. И богатство языка, и особенности словоупотребления, и интонация, и звукопись здесь играют ведущую роль. Он-поэт труднопереводимый. Чаренц как-то сказал, что поэзия хитрая штука и лучше остаться непереведенным, чем чем предстать перед иноязычным читателем B искаженном виде, в плохих переводах. Выступив как поэт-новатор, взрыватель устоявшихся, сковывающих литературу норм и канонов, зрелый Чаренц глубоко уважал искусство мастеров-предшественников, не отвергал старых форм поэзии и пользовался ими наряду с новыми. Баллада, элегия, сонет, рубайи, газель, дистих все это часто встречается в его практике. Видоизменяя эти формы, он подчинял их своим задачам, оставаясь всегда самобытным, взыскательным художником. В архитектонике его поздней поэтической мысли угадываются черты, идущие от строгой уравновешенности армянского зодчества, от суровой красоты и крепости армянских камней. Чаренца обычно сравнивают с Маяковским. Это сравнение, как и всякое другое, верно лишь отчасти. Общее между ними в том, что они оба поэты Октября и великие реформаторы стиха. Ораторские интонации, присущие обоим поэтам, не-одинаковы по своему выражению. Экспрессия у Маяковского часто идет от конкретного зрительного образа. Экспрессия у Чаренца-от мысли, от наплыва слов-образов. В последние годы Чаренц все больше склоняется к широкого плана размышлениям-медитации. Словарь делается еще богаче при полном сохранении стилистического единства. Сравнительное исследование творчества и поэтики Маяковского и Чаренца может быть не только увлекательным, но и весьма плодотворным и важным для уяснения истинной картины становления и развития единой советской литературы. Вот один пример. В январе 1925 года Чаренц создал свою «Элегию, написанную в Венеции» (она написана во время путешествия поэта по Италии). В этой небольшой превосходной поэме Чаренц ведет спор с Аветиком Исаакяном, в ту пору эмигрантом. Набрасывая впечатляющие картины жизни старой и новой Армении, он зовет Исаакяна на родину. Поэтический зов Чаренца перерастает в широкое противопоставление двух миров, двух философий, двух судеб. Важнейшая коллизия века предстает перед читателем преломленной через призму творческих биографий поэтов. «Элегия» написана страстно, убежденно, местами с сарказмом и иронией, но с большой любовью к Исаакяну-знаменитому автору «Абул Ала Маари»-одного из величайших художественных проявлений индивидуалистического бунта против мира лжи и угнетения. Чаренц одержим желанием развенчать печаль, тоску и скепсис старого мастера, заразить его энергией, преобразовательным духом новой армянской действительности. В этой поэме, как и в других произведениях Чаренца, ясно видны широта социального взгляда, революционная устремленность, одновременно мажорность и аналитичность музы поэта. Чаренц был первой любовью армянской читающей молодежи двадцатых годов, тех далеких, овеянных славой послереволюционных лет. Забыть его невозможно. 1957
В. Кирпотин: Пафос его поэзии
Чаренц поэт масс, и в этом его великое достоинство. Масса, быть может, главное действующее лицо его поэзии. Первоначально это абстрактные «неистовые толпы», которым нет ни числа, ни имени, в которых тонут индивидуальные различия. Но они действуют, они единственный демиург истории, и величие их грозно направленной активности-лекарство против болезней чванного индивидуализма. В поэзии Чаренца сплоченные когорты масс топчут труп поверженного эгоиста, желающего поставить свое «я» над «толпой». Поэзия Чаренца росла и ширилась. Она стала дифференцировать «безымянную» массу, стала выделять в ней и портового грузчика Али, и мужика, которому в разгар гражданской войны понадобилась пара сапог, и паренька-комсомольца, без которого не смогла бы сорганизоваться стачка B оккупированном Баку. Двигаясь вглубь, поэтическое представление Чаренца о массе не распыляется, а, наоборот, сохраняя прежнюю мощь, обогащается, становится убедительней, перспективней, прекрасней, я бы сказал-человечней. Ведь коммунизм вовсе не противник личности. Мало того, ведь только коммунизм и превратит всех людей, сколько их ни есть на земном шаре, в личности. Закрыв пути несправедливого возвышения одной личности за счет подавления или даже пожирания многих, коммунизм создает гармонию всеобъемлющего коллектива личностей. Чаренц-провозвестник провозвестник этой гармонии. Его проникновение в «безымянные» толпы, выделение в них отдельных трудовых личностей, наделенных безошибочным нравственным коллективистическим инстинктом, не только путь роста роста его поэзии, но и путь поэтического проникновения в перспективу светлого будущего Земли. Чаренц-армянский поэт, его наследие-вклад армянского народа во всесоюзную и всемирную сокровищницу культуры. Люди по-разному подходят к раскрытию богатства своей национальной культуры. И в России были деятели, которые тщательно собирали, реставрировали, Монтировали и склеивали отдельные этнографические или формальные элементы из того, что они считали национальной культурой. Они называли себя славянофилами, но простые, трудящиеся и серьезные люди смотрели на них, как на ряженых, а Белинский доказал, что в «Евгений Онегине» больше национального, чем во всех их писаниях вместе взятых. Вот и поэзия Чаренца тоже родилась из подлинного духа национальной армянской истории. Она не играет побрякушками, она черпает свое свое содержание из глубин, из диалектики исторического процесса. В ней нет ничего реставраторского, она обращается к прошлому, чтобы найти уроки для будущего. Она рвет со старыми формами и смело создает новые, когда видит, что новое вино не умещается в старые мехи. Зато она вобрала в себя главное-страдания, искания, блуждания, борения, достижения и победы армянских масс, она воочию показала, что исторический опыт армян имеет не местное, не экзотическое, а актуальное и всемирное значение. Армения расположена на скрещении важных исторических дорог, и только мещане, высмеянные Чаренцем в «Стране Наири», могли тешить себя иллюзией, что национальная судьба армян может разрешиться в самоизоляции. B поэзии Чаренца гремят ураганы большой истории, равноправным участником которой была Армения; она порождена большой исторической ролью армянского народа, в ней звучит гордость общими деяниями русских и армян. В поэзии Чаренца тяжелый опыт трудящихся Армении превращается в вещее доказательство того, что любой угнетенный народ может обрести и навсегда упрочить свою свободу только в социализме, может полностью реализовать творческие возможности своей национальной Индивидуальности только строительстве нового, коммунистического строя. Поэзия Чаренца воспевает борьбу масс, освобождение масс, воспевает мир, труд, интернациональное братство, воспевает Ленина.
