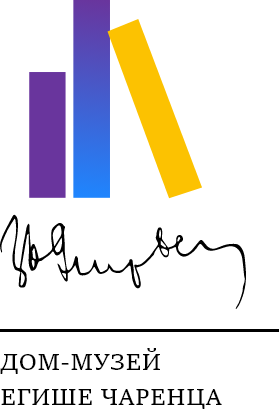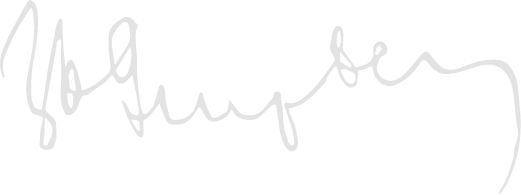 Воспоинания о Чаренце
Воспоинания о Чаренце
Александр Гатов: "Поезия ведь штука хитрая"
Осенью 1933 года по инициативе А. М. Горького была создана так называемая «закавказская бригада Оргкомитета Союза писателей». Группу писателей, работавшую в Грузии, составили Н. Тихонов, Б. Пастернак, П. Павленко, О. Форш и В. Гольцев. В Азербайджан выехали Л. Никулин и А. Зуев. В Армению направились В. Каверин, В. Кирпотин, М. Колосов и я. В ноябре 1933 года в Ереване началось мое знакомство с Егише Чаренцем. С Егише Чаренцем я встретился не в первый и не во второй день пребывания в Ереване. Казалось, что он даже чуждается нашей бригады. Он отсутствовал на встрече нашей с писателями Еревана. Не было его и на правительственной даче за рекой Зангой, куда нас пригласил заместитель председателя Совета Министров товарищ Ерзинкьян. Чувствовалось, Егише Чаренц некоторыми своими поступками, казавшимися эксцентричными, вооружил против себя некоторых государственных и литературных деятелей. Лада между ним и Союзом писателей Армении не было. А к московским гостям он как бы присматривался. И вот неожиданно я получил от него приглашение в гости, которое мне передал Гурген Маари. После Егише мне сказал, что прочел в армянской «Литературной газете» заметку обо мне,-просил раздобыть книжку моих стихов, узнал, что я переводил Верхарна и Потье, и ему захотелось со мной познакомиться, благо я приехал за три тысячи километров для встреч, которые должны были помочь создать сборник переводов армянских поэтов. Я был наслышан о Чаренце как о человеке малообщительном и тяжелом. Но, как я узнал позднее, недоброжелательство к поэту исходило от литераторов, по мнению Чаренца, малодаровитых. А Чаренц был человеком большой культуры и прекрасного вкуса, одинаково требовательным к себе и другим. Что же до некоторой отчужденности от литературной среды, то ему просто претило кулуарное панибратство. В то же время, когда он появлялся на улице, то сразу обрастал толпой, с которой вел беседы на самые разнообразные темы. Как-то на ереванской улице я увидел толпу, окружившую поэта. «Вот Чаренц в кругу своих поклонников и почитателей»,-со злобной иронией произнес мой спутник-литератор. Меня предупредили о «странностях» Чаренца, но с первых же слов личного общения я понял, что это особые странности. Они характеризовали его как человека со своей, не совсем обычной, но зачастую очень верной мерой вещей, явлений общественного, морального, литературного порядка: как большой народный поэт, он был чужд какой бы то ни было окололитературной дипломатии... Много позже я получил от Чаренца письмо. В этом письме высказаны сокровенные мысли поэта о взаимоотношении литератур больших и малых-мысли, которые тогда могли показаться из ряда вон выходящими, даже обидными для представителей малых литератур. Но Чаренц признавал право на всеобщее признание для представителей любой культуры, малой или большой, при условии, конечно, истинного и большого таланта того или иного поэта. С огромной любовью он относился к русской поэзии. «Поэзия ведь штука хитрая, хитрая,-писал он,-если она на одном языке звучит глубоко и оригинально, это еще не гарантия, что и в переводе на другой, более культурный язык она может оставить впечатление...» И дальше знаменательные слова, что ему ведь предстоит встреча с читателями, «для которых Пушкин, Блок, Маяковский, Пастернак Пастернак-свои, отечественные поэты». Вот почему Чаренц на первых порах так присматривался, прислушивался ко мне, просил меня читать свои стихи и пе- реводы из других поэтов: удастся ли мне, чтобы и на русском языке его поэзия прозвучала так же сильно и оригинально, как в подлиннике? Отсюда строгий его суд над сделанным и в будущем-высокая мера благодарности к поэту другого языка, другой культуры за его переводческую удачу. Чаренц отлично был знаком с русской и западной классикой, много русских стихов знал наизусть, с восхищением цитировал «Итальянские стихи» и «На островах» Блока. Блока он считал чуть ли не единственным мастером русского свободного стиха. Ах, как больно было бы ему, если бы его новаторские для армянской поэзии строки прозвучали бы банально, оказались холостым зарядом! А это кстати (или, вернее, некстати) случилось с частью его лирики и с рядом поэм, напечатанных в его «Избранном», вышедшем уже после смерти Егише. К тому же в «Избранное» не вошел высоко оцененный автором перевод поэмы «Детство», не попал ряд переводов, апробированных автором стихов. Думается, что настоящий «Русский Чаренц»-дело будущего, дело чести русских поэтов и издателей! Беседуя со мной, Чаренц держал только что вышедшую «Книгу пути», великолепно изданную, с иллюстрациями Коджояна. Он открыл книгу на странице, где был напечатан перевод из Гёте. Видимо, поэт гордился своим переводом. Смогут ли прозвучать его стихи в России так же неожиданно, новаторски, как «его Гёте» в Армении? Чаренц предложил лично сделать подстрочники и выполнил обещание. Я послал ему пробы моих переводов, его поначалу сдержанное одобренье придало уверенность моим силам. Письмо, которое читатель найдет ниже, явилось ответом на законченную мной работу. Слова Егише, что он благодарит меня «высокой благодарностью друга и поэта», и неосуществленное его искреннее желание переводить мои стихи на армянский язык-все это, думается мне,-эталон, по которому должны равняться отношения между поэтами нашей многонациональной страны. Эти короткие воспоминания лишились бы одной существенной грани, если бы я промолчал, что увидел в комнате Чаренца огромный бюст Владимира Маяковского: больше, чем в натуральную величину (я забыл фамилию автора этого скульптурного портрета). «Откуда эта скульптура?»-спросил Я. Оказалось, что она приобретена Чаренцем на какой-то выставке в Москве и с большими трудностями упаковки и доставки привезена в Ереван. В Маяковском армянский поэтноватор чувствовал брата по «музам и судьбе... P. S. Я хочу, чтобы читатель познакомился с письмом Чаренца ко мне. Это одно из немногих сохранившихся его пи- сем на русском языке. Оно хранится в Институте мировой литературы имени А. М. Горького. А. Г. Дорогой Гатов! С величайшим удовольствием прочитал Ваши переводы моих стихов и поэм и первым делом должен сказать Вам, что я прямо в восторге от некоторых переводов: они почти адекватны орииналам, Вы удивительно хорошо почувствовали и смогли передать в переводе не только почти буквальный смысл моих стихов, строка в строку, но и (что самое главное) подлинный стиль и дух моих писаний,-за что я бесконечно Вам благодарен высокой благодарностью друга и поэта. Особенно мне понравились: 1. Семь заветов. 2. Детство. 3. Первый, третий и четвертый из рубайев, особенно первый, который звучит прямо как оригинал. Остальные несколько тяжеловесны, что, м. б., зависит от конструкции самих этих вещей. Помимо этого, в рубайях самое главное (в смысле формы), чтобы рифмы, особенно в четвертой заключительной строке, особенно метко звучали, в противном случае рифма теряется в повторах и этим самым впечатление от четверостишия получается незаконченное, тусклое. 4. Безусловно хороши все фрагменты. Что касается «Дашнаков» и «Встречи»-то, откровенно говоря, они мне не понравились, м. б., только потому, что переведены без рифм... Стихи сами по себе должны быть почти гениальными, чтобы звучали без рифм,-не потому ль очень немногим удаются белые стихи? За исключением блоковских гениальных белых стихов, я не знаю в русской поэзии ничего такого, что бы оставило на меня глубокое впечатление, даже пастернаковские белые стихи как-то не врезываются в память, не воспринимаются, как стихи. Куда же нам, простым смертным, да еще с таким агитационнобанальным содержанием лезть в такую область! Следовательно, если не удастся Вам втиснуть их в рифмованные ямбы, выкиньте их к черту, особенно «Встречу». «Дашнаков» я бы хотел иметь в сборнике по соображениям понятным, но, ежели не удастся, уж лучше выкинуть, чем иметь в сборнике вещь мало ценную и банальную. Дорогой Гатов! Ваши переводы мне так понравились, что я бы не хотел иметь дело с другими переводчиками для моих отдельных сборников: помимо «Заккниги» я имею еще договор с «Советской литературой» на сборник стихов и поэм. Так вот, не взялись бы Вы перевести еще 1000- 1500 строк для вышеозначенных сборников. Если да, то я вышлю Вам подстрочники поэм и других стихов-и Вы, я надеюсь, блестяще сделаете это дело. Второе: мне очень интересно узнать, не читали ли Вы ваших переводов, точнее, моих стихов русским поэтам: доходят ли они, понятны, не звучат ли тускло и шаблонно? Я очень боюсь этого: поэзия ведь штука хитрая, если она на одном языке звучит глубоко и оригинально, это еще не гарантия, что и в переводе на другой, более культурный язык она может оставить впечатление. Я очень боюсь этого: м. б., все мои стихи гроша медного не стоят и стыдно их даже показывать таким изощренным читателям, для которых Пушкин, Блок, Маяковский, Пастернаксвои, отечественные поэты! Стоит ли лезть в такую высь. Даже страшно подумать. То, что эту гениальную литературу в мире (т. е. русскую) сегодня наводнили всякие ***, это, конечно, не может быть не может быть еще надеждой и оправданием для более или менее серьезного человека, для которого поэзия еще не перестала быть высоким подвигом жизни. Так что, тов. Гатов, очень прошу Вас, напишите мне прямо, откровенно, без церемоний и сентиментальничаний, вы меня не обидите даже самым уничтожающим словом: мне лучше с самого знать истину, чем питать ложные иллюзии, хотя, клянусь поэзией, у меня особенно больших претензий и вовсе нет: я сам отлично понимаю, что отнюдь не обязательно быть заметным поэтом вне своей национальной литературы; мало ли таких, как мы, у поляков, сербов и т. д.-имен которых мы не знаем! И еще вот какая у меня просьба: напишите мне, пожалуйста, какого типа вещи могут больше заинтересовать у Вас: стихи ли философского порядка, с местным ли содержанием, или современные, общесоюзной рев. тематики? Диапазон моих писаний в смысле тематики и жанров довольно обширен и разнообразен, но я затрудняюсь в выборе: меня, конечно, первым делом интересует чем-нибудь отличиться от сегодняшней плеяды сов. поэтов (конечно, в смысле поэтической оригинальности, своеобразия, глубины)-а то ведь и лезть не следует! Ах, как я жалею, что Вы так быстро уехали, а то я ведь на месте мог познакомить Вас со всем моим «творчеством» (у нас в Союзе так обессмыслили и задешевили это слово, что без ковычек как-то совестно писать его)-но Вы уехали, теперь уж делать нечего, придется все выяснить через переписку. Дорогой Гатов, жду от Вас ответа на мои вопросы, и вообще мне было бы очень приятно иметь с Вами постоянную переписку не только вокруг этих меркантильных тем, но и вообще по ряду вопросов поэзии, литературы и т. п. Боюсь только, что Вы слишком заняты. На мое первое обширное письмо я от Вас ответа не получил, я, кажется, писал Вам о том, чтобы Вы поговорили с Шервинским насчет полного перевода моих рубайев (если Вам не удается) и еще кое-что. Не потерялось ли письмо, м. б., Вы написали, а я не получил? Последнее, о чем я хотел Вам сказать в этом же письме-это вопрос Ваших стихов. Я бы с удовольствием перевел их на армянский язык, но это предложение делаю с некоторой робостью, боясь, что Вы можете подумать, что это своего рода «взятка» с моей стороны, с тайным умыслом задобрить Вас! Клянусь, что это не так. Да и не особенно велика честь для русского поэта быть переведенным на язык, который понимают всего-то миллион с лишним людей. Этим и закончим мое послание, в надежде на такой же длинный и пространный ответ. Привет сердечный Искренне уваж. Вас Егише Чаренц 7/IV 1934 2. Ереван