Товарищи, я буду говорить не о технических вопросах поэзии, а остановлюсь лишь на нескольких основных принципиальных проблемах советской литературы, без надлежащего разрешения которых нельзя ни четко ставить, ни правильно решать не только основные вопросы всей нашей литературы, Но даже второстепенные вопросы, касающиеся специально поэзии.
Прежде всего о национальной культуре и ее роли в общей системе советского культурного строительства. Говоря о советской культуре, мы в данном случае имеем не весь ее объем, а лишь ее часть, охватывающую литературу.
Самое знаменательное явление, раскрывшееся перед нами на настоящем съезде, это, на мой взгляд, доклады о национальных литературах, открывших перед нами многообразный, доселе неведомый для нас мир. Это один из самых крупных положительных результатов нашего съезда, все значение которого сейчас еще не может быть оценено в должной мере. Но в свете вопросов, занимающих нас в данном случае, приобретает особую значимость не само явление извлечения этих литератур из тьмы неведения, но, если можно так выразиться, то «беспокойное волнение», которым были охвачены почти все докладчики по национальным литературам. В этом волнении чувствовались нотки как национальной гордости, так и некоей скрытой тревоги. «Национальная гордость» в ленинском понимании и скрытая тревога о том, как бы вдруг и сегодня, в эпоху победы пролетариата, на его родине и на первом съезде писателей освобожденных народов, «старшие» не узнают «младших», «известные»-«неизвестных». Подобная, хотя и бессознательная ногка чувствовалась в речах докладчиков; явление это не только естественное, но и вполне понятное
Откуда возникает, товарищи, эта психология? Каковы ее корни в прошлом? Она прежде всего является порождением того обстоятельства, что нас, так называемые «малые» национальности, до недав него прошлого, до Октябрьской революции, не только не признавали господствовавшие нации, но и всемерно третировали, старались искоренить всякую попытку самостоятельного культурного творчества. Старались низвести нас до уровня дикарей, приравнять нас к «второразрядным», к «низшей расы» народам, не способным на культурное творчество. Говорю-так называемые «малые национальности» и «господствующие нации», так как Октябрьская ре волюция показала нам, что для освобожденных от классового каннибализма народов не существуют малые или большие национальности, а есть братский коллектив равноправных народов, отличающихся друг от друга лишь по «форме», но отнюдь не по способностям или по содержанию своей творческой ра боты. Говорю я—господствующие в прошлом нации, потому что та же Октябрьская революция научила нас понимать, что нет и не было в истории господствующей нации, угнетавшей малые национальности совокупностью всех своих социальных пластов; напротив, говоря о господствующих нациях, мы имеем в виду господствующие классы, осуществлявшие свое мрачное дело не только в отношении малых народностей, но и в отношении собственных угнетенных классов, причем они в отношении последних проявляли иногда большую суровость, чем в отношении привилегированных классов малых народов. Однако не забудьте, товарищи, что эта азбучная истина, ставшая для нас плотью и кровью благодаря победоносной революции рабочего класса, до революции была для нас непонятна и для интеллигенции угнетенных наций–психологически трудно усвояема.
Именно эта психологическая инерция, унасле дованная нами, эта «тревога», по сей день дающая о себе знать, и заставляет нас, представителей «малых» народностей, поспешно и, по возможности, развернуто показать «большим» нациям нашей страны Наши неизвестные сокровища, раз мы располагаем уже в настоящее время всеми возможностями твофрить национальную по форме культуру, чувствовать себя равными рядом с ними, всеми нашими силами участвовать в великом деле-созидании социализма.
Вопрос этот, однако, имеет другую характерную особенность, без учета которой мы вряд ли сможем разрешить поставленную перед нами, На мой взгляд, насущнейшую проблему. Мы уже отметили, что при господстве царизма и буржуазии в необъятной и многоязычной Российской империи господствующие классы не останавливались ни перед какими средствами для подавления творческих возможностей покоренных народностей. Именно этой «культурной» агрессией господствующих классов и можно объяснить то обстоятельство, что после ассимилирования украинца Гоголя они были не прочь поглотить также и украинца Шевченко, однако украинец Шевченко вопреки этим домогательствам не дал себя поглотить, ибо он был чужд господствующей нации, т. е. социального желудка господствующих классов. Его, Шевченко, внешне, т. е. как чисто литературно-эстетическую категорию, русская великодержавная литература в известной степени еще могла попытаться присвоить, но по существу этому присвоению или поглощению препятствовала социальная природа Тараса Шевченко. Эта «природа» была несколько неудобоварима для изысканных кишок тогдашней русской дворянской литературы. Демократическая же струя в лице Чернышевского и других не могла иметь желания к великодержавной агрессии в отношении Т. Шевченко, поскольку сама была преследуема отечественными угнетате- лями не менее, чем инородец Тарас Шевченко.
Известна упорная борьба Чернышевского против ассимиляторов, его великолепная защита самобытного национального гения Тараса Шевченко, но это и подтверждает мой тезис: революционная и де мократическая мысль и была единственной защитницей малых наций, но она сама была в подполье.
Какой вывод можно сделать отсюда, товарищи? Тот единственно правильный, но и простой вывод, что человеческая природа в прошлом и настоящем была и есть не «симфония» национально замкнутых, ограниченных, самодовлеющих культур, в которой каждая нация имеет свой самостоятельный голос, как любят утверждать буржуазные доморощенные теоретики. Этой бесплодной и вредной теории нужно бояться пуще огня. И если мы отрешимся от бесплодной теории «национально замкнутых» культур, перед нами предстанет картина единой общей культуры человечества, где все социально однородные элементы образуют потоки, враждебные противоположным социальным направлениям безотнсительно к их национальной форме. Это и есть са мое существенное при рассмотрении и оценке человеческой культуры в ее прошлом и настоящем. Именно отсюда мы и должны перейти к рассмотрению задач, стоящих в настоящее время перед нашей литературой.
Велика роль национальных культур в общей системе советского культурного строительства–национальных культур, имея в виду не только настоящее, но и прошлое их. Но не забудем, товарищи, что роль эта может оказаться приемлемой и плодотворной лишь тогда, если мы рассмотрим их не сквозь призму замкнутых «национальных культур». Я тоже как армянский писатель принадлежу к «малой» народности и знаю, что если я свою творческую деятельность психологически ограничу рамками национальной замкнутости, сколь будет жалок ее диапазон и сфера ее влияния. Я счастлив и чувствую себя частью наипередового потока человечества благодаря тому, что Октябрьская революция изъяла из духовного поля моего зрения эту жалкую химеру национальных самоограниченностей.
Перейдем теперь к вопросу об использовании наследия прошлого, ставя и этот вопрос в связь с вопросом о национальных культурах.
Говоря о прошлом, мы часто имеем в виду лишь прошлое европейских литератур и литературу народа, на языке которого говорит данный писатель. Но насколько обогатился бы наш творческий опыт, ес ли бы мы, писатели многоязычного Советского Союза, учились также друг у друга. Сколь бы мал ни был народ и его литература, последняя не может не иметь своеобразного оттенка, единственного и не повторимого,-то, что свойственно лишь этой литературе и ее лучшим представителям. Это можно допустить априори—иначе в этом вопросе мы вынуждены стать на расовую точку зрения. Как пример я беру армянскую поэзию в ее прошлом и настоящем—беру армянскую поэзию, ибо она мне более знакома, чем иная национальная литература. И я вижу, что таких мастеров, как наши средневековые светские поэты, эти «искусные рабы», нельзя найти ни в какой другой литературе, конечно, не в смысле их гениальности, а в смысле своеобразия их красок, оттенков и обработки ими формы и материала. Они сегодня оказывают мне великую помощь в создании формы, в корне отличной от форм, применяемых всеми другими советскими поэтами. Я знаю лучших мастеров советской литературы–астернака, Тихонова и Сельвинского; я их люблю и признаю их мастерство. Они мои высокие коллеги и многим обогащают мой творческий опыт. Я знаю прекрасных украинских поэтов Бажана и Рыльского. Мне известно искусство прекрасного украинского мастера Тычины, и я вижу, что в искусстве этих товарищей также есть нечто, что свойственно толь ко им одним, и с этой точки зрения они умножают творческий опыт всей советской поэзии. То же са мое я могу сказать и о высоком мастерстве моих грузинских друзей–тт. Тициана Табидзе и Паоло Яшвили. И я вижу, наконец, в сегодняшней армянской поэзии Гургена Маари и Вагаршака Норенца, чье тонкое и оригинальное мастерство не может не обогатить советского искусства.
Какой же вывод? Что касается наследия прошлого, можно сказать: критическое освоение лучшей части поэтического наследия всех народов, населяющих Союз, всеми советскими поэтами может только способствовать росту и развитию советской поэзии. Что же касается до задач, стоящих перед нами в настоящее время, то мы, сегодняшние поэты Советского Союза, должны знать друг друга не только посредством двух-трех случайных переводов, а-что самое главное,—путем живого обмена твор ческим опытом, путем взаимных переводов. Я знаю, что, переводя лучших русских или украинских поэтов, я не только способствую расширению сферы их влияния, но учусь у них сам. Почему же того же самого не сказать и в отношении русских, украинских, грузинских и других советских поэтов!
Это не только предложение нашим старшим коллегам–переводить нас, но и предложение одного из методов расширения и углубления творческого опыта, которое я делаю всем поэтам Советского Союза. Кроме того, этот метод взаимного обмена творческим опытом плодотворен и тем, что он дает советскому читателю не только то, что пишется на его родном языке, но и то лучшее, что создается во всей советской литературе, на всех языках и в лучших переводах.
То же самое нужно сказать и относительно прозы. У нас стало обычаем прозаические произведения национальных писателей преподносить читателю в плохом переводе, исполненном подчас лицами, ни чего общего не имеющими с литературой. Я до сих пор не знаю ни одного образца национальной про зы, переведенного первоклассным русским мастером. Почему Тургенев мог переводить Мольера, Толстой-Мопассана, Блок-Гамсуна, а наши лучшие мастера не могут переводить друг друга? Если бы все это нами было проделано своевременно, мы бы на этом съезде не были свидетелями печальной картины, когда о национальных литературах выступают одни лишь национальные писатели, и докладчик в своем докладе не ограничился бы тем, что отметил только имя Акопа Акопяна как единственного достойного внимания представителя армянской поэзии!!
Теперь, товарищи, я перехожу к более общему вопросу-к проблематике литературы и мастерству, вопросу, который тесно связан с проблемой нашей критики, так и с рядом других важнейших вопросов.
Рассмотрение этого вопроса я должен начать с выступления т. Эренбурга, одного из лучших советских писателей. В его во многих отношениях знаменательном выступлении все же были нотки уяз вленного самолюбия, могущие произвести впечатление, будто эстет, ну, скажем, в известной мере ропщет против жизни. Этот, разумеется, имеющий более психологический, чем политический смысл, ропот не только его личный, а, можно сказать, ропот того слоя мастеров, не за страх, а за совесть рабо тающих в советской литературе, который имеет вы сокую квалификацию, но незримыми нитями связан с прошлым, в данном случае с традициями высокой буржуазной культуры. Не малочисленны они и в нашей поэзии, значительна их роль в нашей литерату ре. Поэтому тут мы должны говорить об этом ропоте ясно и спокойно, не бичуя, но и без «нежностей», ибо, как известно, еще буржуазный мистик Дм. Ме режковский говорил, что писатель, думающий, что нет в жизни ничего выше литературы, не может быть даже… писателем.
Кто требует, чтобы в форме пасторалей писались романы об ударниках?
Неужели пролетариат?
Кто требует, чтоб в нашей литературе живого заменял вымышленный «классовый манекен»?
Неужели пролетариат?
Значит критики? (И то не все!) Быть может, даже среди критиков есть исключения?..
Но, товарищи, давайте скажем, что за критиками не видеть гигантскими шагами прокладывающего себе путь к овладению культурой живого класса, от имени которого зря иногда негодуют его непрошенные «представители» в критике,—давайте скажем, что за этими действительно «классовыми манекенами» не видеть класса и эпохи значит-за тощими деревьями критики не видеть мощного леса пролетариата.
Мало того: я могу признаться перед съездом, что я тоже неоднократно негодовал на критику, так как эта «критика» не раз вульгарно замалчивала искусство, выпячивая голую «идеологию».
В наших национальных республиках «левизна» нередко умножается на бездну невежества–обстоятельство, не особенно способное дать положи тельный эффект. Однако давайте мы, советские писатели этого типа, признаемся тут в одном, раскроем один психологический секрет,- и я уверяю вас, что от этого мы лишь выгадаем не только как честные советские граждане, но в особенности как писатели.
Давайте признаемся, что часто под этой «левизной» и порою невежеством критиков, чувствуя скры тую грозную правду нашей жизни, которая выше всех наших литературных и эстетических споров, мы все же роптали и бывали недовольны. В этом ропоте мы душили, с одной стороны, протест против нашего бессилия создавать сегодняшнее искусство, с другой стороны-внутренний голос гражданина. Давайте признаемся, что часто какой-то внутренний голос подсказывал нам, что все же они правы в самом основном-это то, что наше высокое искусство порою как будто не служит нашей основной цели, что мы, представители так называемого «высокого» искусства, что-то делаем не так, как это необходимо для нашей борьбы, для нашей победы. Говоря «не служит», я имею в виду не лефовское толкование слова, не непосредственное его значение. Прошу это понять и подчеркнуть. Сам я считаю себя представителем «высокого» искусства, и не мне здесь проповедывать советской поэзии, давно уже выросшей из убогих пеленок лефовского утилитаризма, подобный утилитаризм. Я думаю, что вы понимаете меня без слов, потому продолжаю развивать свой основной тезис. Внутренне чувствуя сегодня, что наше «высокое» искусство в каком-то важнейшем пункте не соответствует массовой психологии самого передового класса человечества, мы нашу злобу как бы хотим выместить на вульгаризаторах и упрощенцах, с одной стороны, весь их грех взваливая на шею всего пролетариата и его авангарда; с другой стороны—подобно страусу прячем свою голову в безнадежных песках теории «сложности» нашего искусства и «некультурности масс». Говоря это, мы забываем, что творческая сила пролетариата и беспримерный ураган культурной революции давно уже развеяли с наших голов этот легковесный песок и класс прекрасно замечает наши торчащие головы. Это лишь мы все еще считаем себя прикрыты ми прозрачным песком подобных теорий и тем самым становимся не столь жалкими, сколь просто-напросто смешными.
Давайте признаемся, что, справедливо негодуя на левых вульгаризаторов, мы, советские, слегка эстетствующие писатели, при всем том сознаем, что наше сегодняшнее «высокое» искусство не адекватно массовой психологии наилучшей части человечества не столь по своей тематике, сколь своими ассоция- циями, образами и т. д., т. е. творческим методом.
Слова Эренбурга о сложности Б. Пастернака и некультурности масс сегодня должны звучать для нас как известный анахронизм.
Я очень люблю Б. Пастернака-некоторыми чертами своего творчества сам я схож с ним, но при всем том чувствую, что наша «сложность»-отчасти «интеллигентская» сложность, которую мы должны преодолеть; что завтрашний культурно выросший пролетариат вряд ли будет видеть и чувствовать мир сквозь призму наших «сложных» ассоциаций, т. е. через самый основной аппарат нашего няшнего сложного искусства (аплодисменты). Другое дело, что для нас, писателей этого типа, сегодня все еще трудно, быть может невозможно Б. деть мир через иной психологический аппарат, но на сегодня достаточно с нас и того, если мы даже при этом духовном аппарате хотим поставить искусство на службу нашей основной цели.
К чему же скрывать свои интеллигентские головы в песках шатких теорий сложности искусства, а не сказать во всеуслышанье, что мы своей психологией, являющейся продуктом сложного развития всей культуры прошлого, сегодня можем предста вить и отображать жизнь и борьбу только так, иного духовного аппарата у нас нет, и этот наш аппарат мы не можем изменить в один день так, чтобы он и художественно отражал жизнь во всей ее сложности и как искусство был бы целиком адекватен массовой психологии пролетариата. Но мы, разумеется, постепенно меняясь, даже этим духовным аппаратом стараемся отобразить жизнь и борьбу в свете идеалов наших дней, так как мы знаем прекрасно, что вне этого освещения гроша ломаного не стоит все наше «сложное» искусство. Но явится ли наше искусство искусством завтрашнего дня? Решение этого вопроса мы оставляем пролетариату и его прекрасному будущему.
Не нам, участникам созидания эпохи бесклассового общества, апеллировать к будущему. Мы сегодня прекрасно знаем, что подобные случаи, когда не признают и не понимают своих гениев, происхо- дят в те эпохи, когда писатель исторически-более передовой, чем господствующий класс.
Есть ли советские писатели, которые могут е- годня сказать это? И для нас, советских писателей, величайшее счастье, что сегодня мы этого сказать не можем. Давайте скажем, что мы как граждане сегодня все же намного выше и глубже, чем как писатели, и это не только нас не унизит, но и возвысит нас и психологически будет способствовать превра- щению в более крупных и совершенных писателей.
Итак, откажемся от привычки страуса и скажем:
Да, мы недовольны левыми вульгаризаторами и покровительствующей им творческой практикой, но мы отстаем в поисках методов искусства отображения подлинной сложности эпохи.
В конце концов, ничтожна цена того сложного искусства, которое даже в творящем его авторе вызывает сомнение в целесообразности и актуальности его. Это очень хорошо понимал Маяковский, но он шел по линии наименьшего сопротивления. Величайшая его трагедия была в том, что он понимал это, но как художник он не смог преодолеть себя в новом синтезе художественной сложности и актуальности темы.
Сегодня в основном перед всей советской литературой, как одна из самых трудных проблем, стоит вопрос о создании этого синтетического искусства. Конкретная часть доклада… с этой точки зрения оставляет несколько нежелательное впечатление. И виновен тут не сам докладчик, а подлинное состояние сегодняшней советской поэзии.
Получается, что часть советской поэзии, идейно наиболее подкованная, та часть, которую он характеризует как поэзию, вышедшую из «партийно-комсомольских кругов», целиком или почти целиком исчерпала себя как категория искусства.
Начиная от Демьяна и Безыменского до Жарова и Уткина, все они отстают как художники, несмотря на актуальность взятой темы: их искусство со своей «дурной простотой» уже не соответствует массовой психологии культурно выросшего пролетариата. Это явление и отрадно, и печально. Отрадно-потому, что факт этот сам по себе отрицает те зис т. Эренбурга «о некультурности масс». Если сегодня не удовлетворяет широкие массы нашей советской общественности искусство Демьяна и Безыменского, то мы, представители так называемого «высокого» искусства, можем этому только радоваться. Но это также и печально, ибо не знаешь понему, но получается, что наши идейно наиболее закаленные писатели остаются в арьергарде процесса творения высокого советского искусства.
С другой стороны, искусство крупнейших с точки зрения мастерства советских поэтов также, как видим, отстает от революционного роста мacс в другом, быть может более важном—в тематике и в создании методов подлинной художественной про стоты. Где же выход? Выход в том, чтобы все совет ские поэты, образуя идейно сплоченную, неразрывную армию, стремились совместно создать то велкое искусство, которое было бы и сложно как таковое и соответствовало бы великолепной духовной конструкции человечества, строящего социализм.
И это искусство мы создадим! Тому порукой служит то, что сегодня лучшая часть «высокого» искусства Пастернака, Тихонова и Сельвинского стала собственностью широкой советской общественности. С другой стороны, порукой тому служи и то, что крупнейшие представители «сложного» искусства не жалеют усилий в деле приближения к великолепной практике строительства социализма. Фактом является и то, что из кругов Демьяна и Безыменского сегодня начинают выходить такие многообещающие поэты, как Прокофьев, Бор. Корнилов и другие, чье искусство значительно ближе по квалификации к Пастернаку и Тихонову, чем к при митивному Демьяну или же Безыменскому. Советское искусство должно создать свое сложное, но поширочайшим массам (которые уже не нятное былые, некультурные массы) синтетическое искусство.
Налицо все данные для создания этого искусства. Для этого у нас прежде всего Имеется объективная предпосылка-процесс создания бес классового общества, есть и субъективная предпосылка-многообразная армия наших советских поэтов, тот человеческий материал, который сегодня стал идейно единой армией, и ежели она обединенно овладеет культурой, созданной лучшей частью человечества, то не будет крепостей, которых бы она не смогла взять. Вот насущный вопрос, поставленный сегодня перед всей нашей литературой. Остальные же, чисто литературные вопросы (о жанрах и проч.) являются «мелочью», хотя и не маловажной, и разрешатся параллельно с разрешением основной за дачи, но не как самостоятельные, а как производные задачи.
Значительна роль каждого писателя, каждо го поэта в отдельности в области создания этого синтетического искусства. Каждый из нас должен не покладая рук работать, закаляться в социалистической практике, овладеть высотами человеческой культуры. И кто из нас органически выполнит этитри основные условия, тот окажется в авангарде нашего сегодняшнего и завтрашнего великого искусства. Я не представляю большей чести для писатель. Итак, необходимо, с одной стороны, трудиться и трудиться, с другой—я обращаюсь к писателям последними словами… «Надо дерзать!»
Да, товарищи писатели, надо дерзать!
(Аплодисменты)
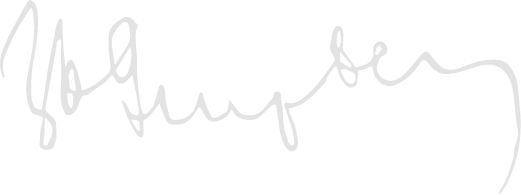 Речь на первом всесоюзном съезде советских писателей
Речь на первом всесоюзном съезде советских писателей

